Улица красных зорь
В улицу Красных зорь большевики в 1918 г. переименовали Каменноостровский проспект Санкт-Петербурга (в то время Петрограда). Именно на ней они построили дома повышенной комфортности для своей элиты, да и вообще все, что связано с закатами и рассветами они любили и широко использовали слово «заря» в названиях своих предприятий (например, «Красная Заря», бывшее АО «Л.М. Эриксон и К°»), изданий (газета «Заря Востока») продукции (духи «Новая заря»). А уж географические названия с этим словом исчислялись в советское время десятками. Даже когда СССР доживал свои последние месяцы, группа «Любэ» записала песню с незабвенным припевом «…Занималась алая заря-заря-заря, алая заря».
Казалось бы, объяснить такую привязанность просто: заря похожа на красное знамя революционной борьбы. Однако причина, возможно, кроется несколько глубже: в конце XIX – начале XX вв. жил и творил один из самых почитаемых в левой тусовке поэтов — Эмиль Верхарн, большой специалист по алым зорям. Это удивительно, но в большинстве его стихотворений, как будет показано ниже, упоминаются те или иные всполохи багровых тонов, а если присмотреться, в соседних строчках мелькает еще и что-нибудь золотое, сочетание аккурат как на государственной символике РСФСР, СССР и даже КНР.

Самое важное, программное произведение Верхарна тоже называется «Зори». Эта пьеса, написанная в символистическо-футуристическом стиле, в царской России была запрещена. Не жаловали ее и цензоры сталинской поры, а вот ранние большевики, как только взяли в свои руки бразды правления российским театром, почти сразу решили экранизировать «Зори» (1919 г.), а затем поставить по этой пьесе спектакль (1920 г.). И не беда, что публика от такого художественного эксперимента была не в восторге. Мнение «воспитуемых» масс большевиков никогда особо не интересовало. Гораздо важнее, что Верхарн был единственным из тогдашних выдающихся литераторов, творчество которого, якобы, нравилось Ленину. По крайней мере, о других поэтических привязанностях Ильича не известно, а о том, что ему нравились стихи Верхарна упоминания найти можно.
Ключевое слово здесь — якобы. О том, что уровень эстетического развития Ильича был на неандертальском уровне я уже писал, причем тут не обидеть бы неандертальцев, которые, как известно, были как раз людьми довольно-таки продвинутыми, как минимум, в живописи. Ленин же так вжился в роль ненавистника буржуазной культуры, что всякие эстетические «муси-пуси» на дух не выносил. Напрасно вы стали бы искать в необъятном собрании его сочинений отсылки к классической литературе (исключение — странная статья «Лев Толстой как зеркало русской революции», в которой речь идет о чем угодно, только не о произведениях Льва Толстого). Несколько слабых аллюзий на русскую литературу есть в его главной философской книге — «Материализм и эмпириокритицизм», где, казалось бы, и следовало блеснуть эрудицией, иллюстрируя глубокие теоретические выводы цитатами из всем знакомых книг. Но, почему-то, кроме Тургенева ни один писатель там не упоминается, да и из этого автора какие-то второсортные персонажи и произведения. Например, одну из мыслей Ленин иллюстрирует ссылкой на «тургеневского пройдоху» (ПСС, Т.18. М., 1973. С.86), упоминающегося в довольно безликом с художественной точки зрения тургеневском стихотворении в прозе «Житейское правило»:
— Если вы желаете хорошенько насолить и даже повредить противнику, — говорил мне один старый пройдоха, — то упрекайте его в том самом недостатке или пороке, который вы за собою чувствуете. Негодуйте… и упрекайте!
Во-первых — это заставит других думать, что у вас этого порока нет.
Во-вторых — негодование ваше может быть даже искренним… Вы можете воспользоваться укорами собственной совести.
Если вы, например, ренегат, — упрекайте противника в том, что у него нет убеждений!
Если вы сами лакей в душе, — говорите ему с укоризной, что он лакей… лакей цивилизации, Европы, социализма!
— Можно даже сказать: лакей без лакейства! — заметил я.
— И это можно, — подхватил пройдоха.
Для иллюстрации этой простой мысли можно было ограничиться русской пословицей «перекладывать с больной головы на здоровую», в чем, кстати, большевики были великими специалистами.
В общем, хорошего художественного вкуса Ильич в одной из своих основополагающих философских работ не продемонстрировал (и нигде не продемонстрировал), в отличие от грубости, которую столь ненавидимый нынешними левыми философ И.А. Ильин, один из немногих, кто пытался рецензировать «Материализм и эмпириокритицизм», характеризовал так:
Нельзя не обратить внимания и на тот удивительный тон, которым написано все сочинение ; литературная развязность здесь порой доходит до геркулесовых столбов и иногда переходит в прямое издевательство над элементарными требованиями приличия: словечки вроде «прихвостни», «безмозглый», «безбожно переврал», «лакей» попадаются буквально на каждой странице, а превращение фамилий своих противников в нарицательные клички является далеко еще не худшим приемом в полемике г. Вл. Ильина.
(См.Ильин И.А. Сочинения в 2-х томах. М. 1993. т. 1. С. 44-45. Тут нужно заметить, что свое философское произведение Ленин подписал как Вл. Ильин, так что получается, что Ильин критикует Ильина, но, думаю, перепутать этих двух авторов сложно).
Так что, если уж писать «с перчиком», то вместо упоминания тургеневского пройдохи можно было применить анекдот из серии т.н. «армянских»: «Что такое супернаглость? — Пукнуть в битком набитом автобусе и громче всех возмущаться». К чему это неуместное дворянское чистоплюйство?
Да, всем хорош был Ильич как пролетарский вождь. Пробивной силищей обладал неимоверной, злости антибуржуйской в нём было на целую атомную бомбу. Другого такого не сыскать. Взять хоть Плеханова. Он уж и «Капитал» на русский язык переводил, и у истоков РСДРП стоял, а как до дела дошло — на попятную: «Не готова, — говорит, — к социалистической революции Россия!» И тут Ленин: «Есть такая партия!» Могучий был джигит. А что неотесанностью своей всех буржуазных спецов распугал — это уж побочный эффект, да-с, батенька. Должны же у человека быть какие-нибудь недостатки.
Коллеги Ленина по большевистскому цеху, между прочим, своими эрудицией и хорошими манерами пользовались иной раз очень умело. Троцкий с бывшими царскими генералами смог договориться, в Красную армию их записал; Луначарский профессоров, художников, архитекторов на советскую сторону переманил; Горький — писателей. Образумить Ильича, привить и ему хороший эстетический вкус товарищи по партии пытались неоднократно. Было, например, в Париже знаменитое кафе «Ротонда», в котором любили собираться самые залихватские интеллектуалы рубежа XIX–XX веков, начиная с Пикассо и заканчивая Эренбургом. Любили там бывать и радикальные политики. Троцкий, например, одно время частенько захаживал. Решили, было, и Ленина к этой тусовке приобщить, да куда там. «Каждая революция, — распекал он монпарнасских оболтусов, — приносит свою грязную пену. Что, думаете, вы — исключение?» В общем, так и остался в своем блаженном неведении в том, что касается передовых литературы и искусства.
Решили тогда товарищи пойти на хитрость:
– Раз ты, — говорят, — Ильич, все эти интеллигентские химеры не жалуешь, так давай мы хоть слух пустим, что тебе, скажем, поэзия Верхарна нравится. Без Верхарна нам, коммунистам, нынче ни одного, даже самого плохонького буржуеныша не охмурить: обзовет мужланами и с классовым врагом сотрудничать будет.
– А, делайте что хотите, — махнул рукой Самый Человечный. — Только чур, меня эти ваши поэзы читать не заставлять.
На том и порешили. Пошел с тех пор слушок, что оченно Ильич бельгийского поэта-символиста жалует, хоть документально это и плохо подтверждается. Возьмем, к примеру, справочный том Полного собрания сочинений Ленина на букву «В», а там лишь
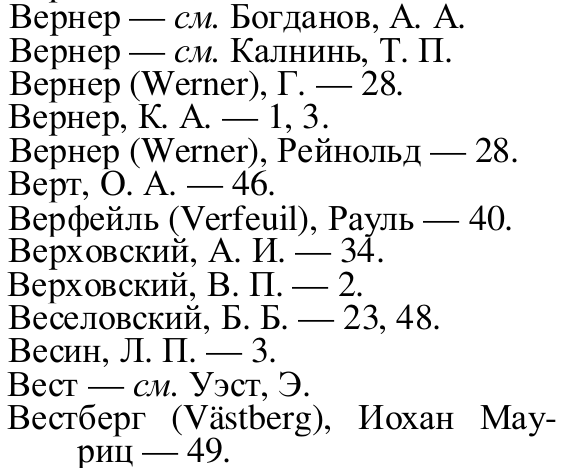
Как говорил в таких случаях крокодил Гена: «Так-так… Че… Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары… Странно. Никаких чебурашек нет…». Значит, мы так и не узнаем ничего интересного о творчестве Эмиля Верхарна применительно к революционной тематике? Узнаем, узнаем! На Ленине свет клином не сошелся.
Хорошую и при этом краткую биографию Эмиля Верхарна написал Стефан Цвейг. Ее не без некоторых усилий, но пока можно найти в Интернете, и она ничего кроме симпатии к описанному в ней человеку не вызывает. Жил, мол, такой жизнерадостный, хотя и не слишком общительный литератор. Не бедствовал, хотя и не шиковал. Особых драм в судьбе Верхарна не случилось, разве что погиб один из основоположников символизма нелепо, под колесами поезда в возрасте 61 года. Случилось это в самом конце осени 1916-го, когда (и это символично) было закончено строительство Транссибирской магистрали. А через месяц убили Распутипа, а еще через 2 началась революция в России, которую поэт хоть и не увидел, но предчувствовал.
Стихи Верхарна, в отличие от его жизнеописания, по большей части мрачны. Впрочем, Стефана Цвейга послушать, так и Ленин был лучиком добра, выпущенным чьей-то заботливой рукой в сторону России в виде запломбированного вагона.
Начнем рассмотрение произведений бельгийца с обещанного фокуса: множество его стихотворений содержит упоминания об оттенках красного цвета, причем в соседних с «красными» строками фигурирует еще и золото. Впечатление от чтения Верхарна больше всего похоже на то, которое производит знаменитая картина Эдварда Мунка «Крик» (1893 г.).
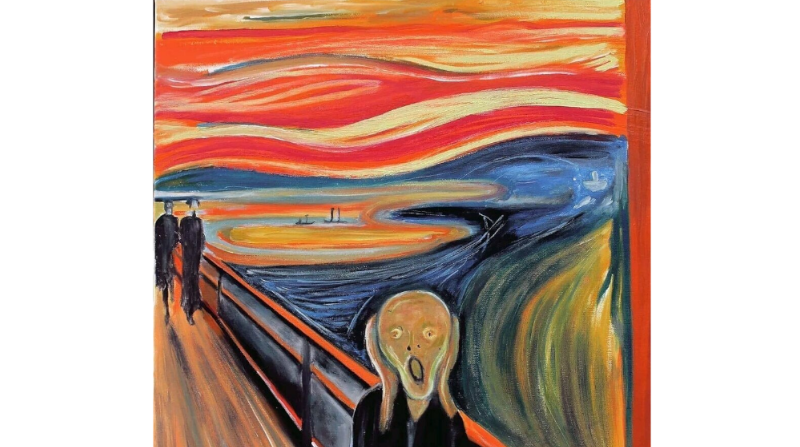
Итак, «ахалай-махалай, сяськи-масяськи», Ctrl+F! Ищем в pdf-сборнике поэзии Верхарна корень «золот», а в соседних строках слова, обозначающие оттенки красного. «Улов» приносит первое же стихотворение — «Фламандки» в переводе Г. Шенгели:
И жирных каплунов чудовищные четки, Алея, с черного свисают потолка, … И золотых лучей в вине змеится пряжа,
Подобных сочетаний слов (красное + золотое) в стихах Верхарна встречается так много, что я вынес найденные фрагменты в конец текста. Здесь же добавлю лишь еще одну строку:
Кровавым золотом пылают семафоры…
Не потому, что очень уж она залихватская, а потому, что это уже не из стихотворения. Это из знаменитой пьесы «Зори», к рассмотрению которой мы и переходим.
Тревога, выраженная в творчестве Верхарна, связана, конечно же, с предчувствием социальных катаклизмов. Вот, например, стихотворение «Мятеж» (приводится в переводе В. Брюсова):
Туда, где над площадью — нож гильотины, Где рыщут мятеж и набат по домам! Мечты вдруг, безумные, — там! Бьют сбор барабаны былых оскорблений, Проклятий бессильных, раздавленных в прах, Бьют сбор барабаны в умах. Глядит циферблат колокольни старинной С угрюмого неба ночного, как глаз… Чу! Бьет предназначенный час! Над крышами вырвалось мстящее пламя, И ветер змеистые жала разнес, Как космы кровавых волос. Все те, для кого безнадежность — надежда, Кому вне отчаянья радости нет, Выходят из мрака на свет. Бессчетных шагов возрастающий топот Все громче и громче в зловещей тени, На дороге в грядущие дни.
Это написано в 1890 году, почти одновременно с вышеупомянутой картиной Мунка. Пьеса «Зори» является гораздо более развернутым описанием народной смуты. Дело происходит в вымышленной стране Оппидомани. Местность охвачена пламенем. На горизонте огромные зарева; звон набата. В первой сцене нищие злорадствуют над бедами, свалившимися на богатых и знатных:
— Пришел черед арендаторам почуять смерть за плечами.
— Какое неожиданное, чудесное возмездие! Изгонявшие нас изгнаны сами. Они толпятся на большой дороге. Наши богохульства были не напрасны; наша ярость, молитвы и проклятья не пропали даром!
Смотри, к болотам их стада бегут. Беснуясь, рвутся жеребцы из пут И тяжело храпят, кося багровым оком.
(Вспомнилась песня про коня, который «косит лиловым глазом»?)
Дальше — интересная реплика одного из нищих:
— Все короли зарятся на Оппидомань. О ней мечтают в самых глухих уголках земли.
Интересно, прообразом какой страны является Оппидомань? Казалось бы, все территории на планете к концу XIX в. были уже поделены между колониальными хищниками. Что же это за еще не разграбленная земля? Уж не Россия ли? Да не может быть, пьеса-то написана в 1898 году, а в России Верхарн побывал только в 1913-м…
Нищий с нелепым именем Бенуа (фамилия одного из достаточно знатных российских родов) говорит, отвечая на вопрос о виновниках бедствий:
Кто, как не фермеры да эти мужики Нуждой и голодом зажали нас в тиски? У них ломились закрома. У нас И корки не бывало про запас. И в ярости огня, что ныне Грызет их риги на равнине, Я злобу давнюю свою, Свой гнев, так долго спавший, узнаю. С тех пор как стал я нищим и бродягой, Я призывал все кары неба На тех, кого молил о черствой корке хлеба. Я в их дома болезни заносил, Выбрасывал их трупы из могил, Я попирал презренный их закон, Насиловал их дочерей и жен; Где мог, вредил всему их роду И вечно буду их врагом. Все годно: кол, топор и лом, Чтоб истреблять их мерзкую породу.
Это довольно необычно. Как правило, в доведении страны «до ручки» винят короля, олигархов, буржуазию, а здесь — крестьян! Правда, этот Бенуа оказался провидцем: в 1918 году в России именно так и получилось: город умирал от разрухи и голода, а в деревне жили вполне сносно, даже самогон из излишков зерна гнали. Ну, а в самом деле, с каких пирогов отправлять хлеб туда, откуда взамен ничего не поступает? Вот и ездили бедолаги вроде Марины Цветаевой к крестьянам на поклон, последние янтарные бусы на «курка-млеко-яйки» выменивать, а у тех, видите ли, «курочки не нясутся». Обидно же!
Дальше речь заходит о народном вожде по имени Эреньен (Hérénien), который один способен вывести страну из череды бедствий. Один рабочий говорит:
А разве он не властвует народом? Святой мудрец! Он и сквозь тьму времен Событий ход провидит вещим оком. В своем всеведенье глубоком Как тонко разъясняет он, Где надобен расчет, а где отвага, Чтобы грядущим овладели мы. Своею книгою он пролил свет в умы, Народного алкающие блага. Он, только он найти дорогу смог В тот мир, где человек становится как бог.
Чем-то знакомым повеяло, в имени Эреньен даже слышится ЭЛеньин.
Дальнейший текст содержит немало моментов, знакомых нам по истории русских революций, например, борьба с кулаками:
Дядя Гислен. Наши клячи выбились из сил. Пускай отдохнут. Эй вы! Нищие! Этот чертов Эреньен не проходил еще здесь?
Нищий Бенуа. Дядя Гислен, замолчи.
Дядя Гислен. Мне велят замолчать! Мне велят замолчать!.. Почему?.. Из-за кого? Можно подумать, что Эреньен и впрямь хорошо знает вас!
Нищий Бенуа. Дядя Гислен, мы здесь сила и можем тебя пристукнуть, прежде чем ты раскроешь рот. Ты годами выставлял нам за дверь кухонные помои, то, чего и твоя свинья жрать не хотела. Зато мы годами приходили к тебе с нашими просьбами и мольбами. Итак, за прошлое мы квиты, а настоящее принадлежит нам. (Угрожающе направляется к дяде Гислену.)
Но песенка дяди Гислена спета: без уничтожения «старого мира» не построить «нового»:
Когда я умру, пастух, ты истребишь все старые семена. Они покрыты вредной пылью, они изъедены, они заплесневели. Не с ними торжественно обручится земля. А ты, побывавший всюду, ты посеешь на моем поле, на моей ниве новые семена — живые, свежие, прекрасные семена, которые ты видел в девственных землях.
Это говорит Эреньен, правда, не сам вождь, а его умирающий отец, но сын не имеет ничего против уничтожения «зараженных семян». Интересно, какие «нивы» этот ветхозаветный агроном считает своими и только ли растениями ограничится селекционная работа, которую он завещает произвести?
Между тем никак не ладится смычка между «городом» и «деревней»:
Крестьянин (старикам). Если бы не вы, горожане, наши нивы цвели бы, наши риги не могли бы вместить зерно! Если бы не вы, мы были бы сильны, здоровы и спокойны. Если бы не вы, наши дочери не шли бы на панель, а наши сыновья — в казармы. Вы запятнали нас своими вожделениями, своими пороками, и вы же спустили с цепи это чудовище — войну.
Горожанин (крестьянам). Пеняйте на себя. Зачем вы являетесь к нам жадными полчищами? Из деревенской глуши вы приходите грабить и воровать; вы скудоумны, ваши мелкие душонки так черствы и свирепы, что вас не отличишь от разбойников. Вы поставили за всеми прилавками вашу скупость и плутовство. Вы постепенно заполнили все конторы на земле. И если наш век скрежещет бездарными, раболепными перьями, — виною миллионы ваших рук, готовых переписывать до гроба.
Крестьянин. Мы были вам необходимы. Не вы ли огласили призывами наши поля?
Горожанин. Вы — тесто, замешанное на посредственности; батальоны, занумерованные ничтожеством. Вы — причина медленного одряхления городов, их косности и тяжеловесности. Если бы не вы, город еще сохранил бы легкость, бодрость, подвижность. Если бы не вы, по-прежнему процветали бы отвага, живость, горячность. Если бы не вы, сон не парализовал бы жизнь, смерть не напитала бы землю кровью.
Но не время спорить. Мятеж разгорелся на фоне иностранной интервенции, что, опять-таки, не может не напоминать Россию в 1918 году:
Старик. Эй, не думаете ли вы, что враг, сложив руки, ждет конца ваших пререканий? Если наш город погибнет, то из всех бесполезных слов, из бесцельных споров, из многословия и красноречия, которые столетиями сыпались на него, наверное можно будет соткать ему погребальный саван. Говоруны — единственные виновники несчастий.
Второй. Все сговорились против Оппидомани. Как в падали гнездится тысяча личинок, так в ней заложены тысячи причин ее гибели. Счастье, что там, в далеких землях, еще могут появиться спасители!
Герои пьесы задаются вопросом:
Где смелая и твердая рука Смиряющего стадо вожака?
Отвечает Сельский Ясновидец:
Оппидомань! Взгляни, к твоим садам, К твоим мостам, аркадам и соборам Спешат все дали мира, Чтобы твоим натешиться позором. Оппидомань! Взгляни, твои дома, Колонны, башни, каждый камень — Всё, всё кровоточит, и скорбно над тобой Рыдает погребальный пламень. Оппидомань! Последний час настал, И ты погибнешь в пасти жгучей. Спасенье только в том, чтоб об руку с тобой На бой Встал некто, непомерный и могучий.
Старик. О, кто бы он ни был, этот неведомый, — с каким восторгом был бы он встречен! Весь народ — и мы первые — приветственно склонились бы перед ним.
Сельский ясновидец: Тот, кого ты ждешь, старик, — Он велик, он велик! И долго вам расти, и долго надо ждать, Чтобы его постичь и разгадать.
Старик. Он еще не родился.
Второй. Никто не предчувствует его прихода.
Третий. Никто не предрекает его деяний.
Четвертый. А Жак Эреньен?
Пятый. Жак Эреньен?.. Это безумец!
Вооот… Ждем это мы, ждем мессию, а он, оказывается, давно уж здесь. Надо только хорошенько позвать. А ну-ка дружно, детишки:
– Дед Мо-роз! Дед Мо-роз!
– Слышу, слышу! — раздается за кулисами.
Конечно же, явившийся на народный зов герой оказывается превосходным вождем. Эреньен, между прочим, еще и успешный публицист, его книги расходятся огромными тиражами. В них простой народ находит ответы на насущные вопросы, да и семейный бюджет пополняется:
Клер <жена героя>. Тебе прислали остаток по счету. (Вынимает из кармана записку.) Смотри, твоя последняя книга полностью разошлась.
Эреньен (пробегая глазами записку). И вот меня читают, и спорят обо мне, и ждут, и жаждут моего суда.
Между тем острота политической ситуации не спадает. На внешних границах наступает неприятель, внутри не утихает мятеж, который уже готов смести и самого Эреньена:
Эреньен <жене>. Что бы ни случилось, я запрещаю тебе жаловаться. Мы живем в дни великого ужаса, страданий и обновлений. Незримое становится Властелином. Люди могучим усилием стряхивают с себя бремя вековых заблуждений. Утопия покидает заоблачные сферы и спускается на землю. Это сознают даже те, кто нас осуждает.
Клер. Были сегодня утром известия о неприятеле?
Эреньен. Нет еще. Но то, что вчера предсказал капитан Ордэн, долго будет поддерживать огонь в моей душе. Этот капитан принадлежит к числу тех пылких людей, которые осуществляют невозможное. Подумай только — что, если ему и мне, нам двоим, удастся задушить войну, задушить ее здесь, на глазах у низложенных, бессильных вождей! Вызвать открытое примирение солдат — чужих и наших! Отдать этой высокой цели все силы своего существа, всю мощь своей веры! Какая прекрасная мечта!
Так-так, опять знакомые нотки, столь любезное большевистскому сердцу братанье с неприятелем. Никто не в силах остановить войну, «а вот один наш мальчик смог». Да что там война! Сам консул приходит к Эреньену и расписывается в полном неумении:
Консул. Жак Эреньен, я пришел к вам от имени правительства Оппидомани, которое просит вас об исполнении великого долга. Как ни различны наши идеи, мы несомненно согласны между собой, когда речь идет о спасении города. Мне кажется, я говорю с будущим вождем народа, который мы любим разной любовью, но одинаково горячо.
Эреньен. Предисловия излишни. Я спрашиваю, что привело вас ко мне и чего вы от меня ждете? (Жестом приглашает, консула сесть.)
Консул. Положение ваших друзей там, наверху, на кладбище, весьма плачевно. Серьезной атаки они не выдержат. Вчера правительство хотело их уничтожить, но их много,они молоды, отважны, они пригодны для защиты Оппидомани. Едва ли и теперь их можно считать мятежниками. Они озлоблены, они бастуют — и только. Но, быть может, уже завтра, при виде грозных пожаров, полыхающих вдали, они и сами станут поджигателями. Ненависть толкает на безумства, и примись они за грабежи и убийства, это еще не будет концом, но уже станет позором.
Жестом приглашает, консула сесть, Карл! Вот это круто обломал буржуя! Но старания Консула напрасны. Эретьен не забыл властных козней, вины знати перед народом, так что никакой поддержки Временному правительству! Дальше диалог прямо-таки хрестоматийный:
Консул. Ну, все равно. Безумием было бы ставить наши поступки в зависимость от наших слов, — мы должны думать только об Оппидомани.
Эреньен. Принимая вас у себя, я думаю только о ней.
Консул. Государственный человек столь высокого ума не может не знать, как далеко мы распространили влияние и славу Оппидомани.
Ее история — история вождей И мудрых консулов, что по земле кровавой В багряном золоте воспламененных дней Во все края, не ведая предела, Водили армии, увенчанные славой. Тогда великое стремленье в нас горело! Народ, с его вождями наравне, Мир изумлял отвагою в войне. Враги сжимают нас кольцом огня и злобы, Им памятен триумф тех легендарных дней, Когда, взметнув безумные знамена, Мы гнали их войска в ледовые трущобы. Оппидомань для всех, как прежде, непреклонна. Колосс великолепный и прекрасный, Наш город высится в величье одиноком, Равно прославленный и мощью и пороком. А вы — вы силитесь найти в нем только зло…
Эреньен Но солнце вашей славы уж зашло: Прославленным мечом она убила право, Но именно теперь, как дивная мечта, Со мною к вам идет иная слава, Нетронута, сильна и девственно чиста.
Эта слава соткана из новой и глубокой справедливости, душевного героизма, пылкой отваги и временного неизбежного насилия. Она менее блестяща, чем ваша слава, но более надежна. Ее ждет весь мир. Вы ее боитесь, я горячо ее жажду, но оба мы чувствуем, что она близка и неотвратима. Вот почему вы просите моей помощи, вот почему я позволяю себе уже обращаться с вами как с побежденными. Что бы ни делали вы и вам подобные в этот час, вы полностью зависите от моего согласия или отказа.
Консул. Вы заблуждаетесь…
Эреньен. Нисколько! Как и я, вы знаете, что без моей помощи вы бессильны. В моих руках вся великая духовная сила Оппидомани.
Консул. Вы забываете, чем грозит крушение империи. Все древние принципы, все вековые привычки поддерживают ее. И армия за нас.
Эреньен. Армия? Скажите лучше — командиры, так как солдаты колеблются или протестуют. Они готовы примкнуть к народу. В них моя надежда и ваша гибель. Если бы все они вам повиновались, если бы не страх перед огромным восстанием народа и армии, вы бы уже бомбардировали Авентин.
Молчание.
Итак, не правда ли, вы пришли просить меня пойти туда, наверх, на гору, на кладбище, чтобы заставить угнетенных спуститься к тем, кто их поработил? О! Я прекрасно вижу всю опасность и гибельность такого поручения.
Затем наш герой решил кинуть своего партнера Марселласа Воллеса не сдерживать обещание, данное Консулу. Обратившись к бунтующему народу, он решает сам всем владети превратить буржуазную революцию в социалистическую:
…мы озарим человечество величием таких завоеваний, что люди, увидев их во всем великолепии осуществления, объявят день нашей победы началом новой эры.
Впрочем, так им, буржуям, и надо, ибо разбазарили национальное достояние:
Казна их пуста, запасы истощены, склады разграблены. Нет больше хлеба, чтобы выдержать осаду; нет больше денег для защиты. В каких же оргиях, в каких безумствах и грабежах исчезли народное достояние и продовольственные запасы?
И еще что-то неразборчиво про полимеры.
Эретьен входит в раж, в нем просыпаются диктаторские и даже мессианские замашки:
Толпа. Мы должны просить у него прощения!
Эреньен. Да, просить прощения, ибо в таких людях, как я, не сомневаются.
Четкого плана по построению нового, «более лучшего» общества у вождя, конечно же, нет, но есть мощный энтузиазм:
Эно <оппонент из левых>. Сила, вдохновляющая вас, столь же безумна, сколь она пламенна!
Эреньен. Но истина только в ней: служить истории, довериться великой надежде, охватившей ныне весь мир!
Здесь обнаруживается одна странность в характере Эреньена: он как-то прохладно относится к своему сыну, у которого в пьесе нет даже имени, фигурирует в тексте просто как «сын» или «ребенок».
Сын Эреньена вбегает и хочет поцеловать отца, но тот его не замечает, как бы забыв о нем. Шум движущейся под окнами толпы все нарастает. Эреньен бросается к окну.
Вождь, преодолевая сопротивление жены, выносит сына из дома на руках, чтобы произвести впечатление на разъяренную толпу, но в этот момент непонятно откуда раздается залп. Клер думает, что убили ребенка, но погибает сам Эретьен, видимо, прикрыв сына собой. Это довольно странно, поскольку герой, отдавший жизнь за революцию, уже как-то не вытанцовывается, необдуманный поступок не вяжется с образом мудрого руководителя.
Последнее действие посвящено чествованию погибшего лидера:
Молодые люди: — Эреньен, Эреньен, мы смена твоя. Мы клянемся тобой, посвящая тебе Все, чего мы достигнем в борьбе, — Все прекрасное, светлое, сильное, чистое, Все несущее миру расцвет бытия. — Эреньен, Эреньен! Память славы твоей Будет вечно пылать в сердце будущих дней. — Эреньен, Эреньен! Вдохновляй ныне нас, Как недавно, в печальный и гибельный час, В дни разлада и в дни заблуждений, Темным силам назло, Дав нам жизнь и тепло, Вдохновлял нас твой пламенный гений.
Эно. Он низверг и растоптал старую власть, чье изображение еще высится на пьедестале. (Указывает на статую.)Свистки, крики: «Вали ее на землю, вали!» Рабочие хватают ломы и взбираются на пьедестал. Он уничтожил это гнилье: ее трусливых консулов, ее беззаконные законы, ее позорные обычаи, ее продажную армию. Толпа. Долой ее! Долой!
Эно. Он освободил нас от ее воровских банков, от ее золота, парламентов и бирж, он убил все противоречия. А эта статуя глумится над его деяниями. (Указывает на статую.)
Толпа. Старая негодяйка! — Проклятое чудовище! — Продажная потаскуха! Крики со всех сторон: «Долой ее! Долой!» — Кинуть ее в сточную канаву! — Ломай ее! Бей! — Вали! Вали ее в грязь!
Под яростные крики толпы огромная статуя начинает качаться и падает. Мгновенье мертвой тишины. Затем Эно схватывает уцелевшую голову, поднимает и, пошатываясь под огромной тяжестью, молча бросает. Голова разбивается у ног Эреньена.
Кончается пьеса тем, что Городской ясновидец восклицает: «А теперь пусть загораются Зори!» Они и разгорелись. Полыхнуло так, что 70 лет потушить не могли.
После прочтения «Зорь» у меня сложилось впечатление, что наша революция была сделана не по «лекалам» Маркса и Энгельса (хотя и они ни к черту не годятся), а по вот этому произведению Верхарна. Готовый, узнаваемый сценарий, для осуществления которого не нужны ни диктатура пролетариата, ни диалектический материализм. Во время своего визита в Россию, состоявшегося в конце 1913 г., бельгийский поэт сказал в одном из интервью:
…народу, в котором кроются столь великие возможности, — народу, призванному <кем?> к созданию культуры будущего, — следует бодро переживать эпоху политической и общественной невзгоды… Будущее русского народа грандиозно. Нужно твердо и крепко верить в это.
Как тут не предположить, что он был посвящен в какие-то планы?
В заключение — стихотворение Эмиля Верхарна «Россия», одно из последних им написанных (1916 г.):
Поселки Азии, Европы города — Москва, Иркутск, Архангельск, ряд за рядом, Вы ввысь возносите короны изо льда, — Россия белая горда своим нарядом. Бог весть, что за огонь воспламеняет вас, Каких углей горящие затеи На жертву вас зовут, чтоб в некий грозный час, Быть может, жизнь отдать за марева идеи.
Приложение. Цитаты из поэзии Эмиля Верхарна с упоминанием оттенков красного и золотого
В некоторых фрагментах красный цвет непосредственно не упоминается, но описывается утренняя или вечерняя заря. Красный может также присутствовать как упоминание огня или крови:
О, трепетная рань святого захолустья, Когда еще река вся в золоте стрекоз… … А в предвечерний час, под гневным небосклоном, Струилось золото по всем ветвям червонным, По всем излучинам бессмертного огня. … В те времена, когда тиары и кресты, Бросаясь в ярые бои средневековья, Внезапно падали, ломаясь о щиты, И, словно скипетры, окрашивались кровью… … Они у королей нашли себе защиту И золото взамен дарили королям. … Земная власть впряглась в их солнца колесницу, И брызнули на мир зловещие лучи, И в блеске золота, в дыханье ароматов, На троне пурпурном, под сенью из парчи Спесь оплела сердца готических аббатов. … Чтобы смерть небеса, наконец, даровала Тем, кто золото чувств отдавал ей, бывало. Майским утром, когда день-младенец во сне В крупных брызгах росы улыбался весне … Ряды волшебных лун сияли на причале, Пускались в путь суда под флагом золотым, … Народов красный гнев, которые восстали, Проснувшись на заре и веря только ей. … Нефть, ворвань, и асфальт, и дух дубленой кожи! Воспоминанием каких-то черных снов В чудовищном дыму, в закатной красной дрожи Неисходимый град вздымает строй домов. Клубком гремучих змей стремят свои ущелья Проспекты черные вкруг доков и мостов, Где газ и керосин в безумии похмелья, Как жесты дикие, как маски паяцов, — Бой золота и тьмы, — в вечерней мгле клокочут. … Туманы Севера, где умирают светы, Где разлагается светил кровавых рой. Вот Лондон бешеный, в пивной туман одетый, Где бродит золотых и черных грез настой, … Наживы пламенность и кошелька экстазы! О, руки, к золоту летящие с мольбой, О, души, чахлые от золотой заразы, — А там шагов, шагов бесчисленных прибой О скалы золота, — в величии мечтаний Над общим пламенем и напряженьем сил. Крик, шепот, стон тоски, уходит день в тумане, … Вот молы, фабрик алтари, И молы вновь, и фонари, — Прядут, медлительные пряхи, Сияний золото в тоске и страхе. Вот камня вечная печаль, Форты домов в уборе черном; Закатным взглядом, скучным и покорным, Их окна смотрят в сумрачную даль. Вот верфи скорби на закате, Приют разбитых кораблей, Что чертятся скрещеньем мачт и рей На небе пламенных распятий. … В опалах мертвых, что златит и жжет Вулкан заката, в пурпуре и пемзе, Умерший разум мой плывет По Темзе. Плывет на волю мглы, в закат, В тенях багряных и в туманах, Туда, где плещет крыльями набат В гранит и мрамор башен рдяных, — И город жизни тает позади С неутоленной жаждою в груди. … Воспоминанья о тебе плывут из мглы, Как облака в последний час заката. Цветок, и мотылек, и парус над волной, И ты — все в ночь уходит без возврата, Лишь боль и золото закатное — со мной! … Блаженство тишины и ладан ароматный, Плывущий от цветов в закатный час глухой, И вечер медленный, прозрачный, необъятный На ложе золотом покоится с землей Под алым пологом, — а тишина все длится! … В кварталы кабачков, где все полно весельем, Где похоть рыскает меж золотых зеркал. Как рана страшная алея, подошел Раздутый на ветру громадный парус к молам, … Где было б гордостью: впивая дикий страх, Слыхать вокруг себя богов глубокий голос, Пока бы грудь земли в куски не раскололась Под хладным золотом, пролитым в небесах. И много тысяч лет он бьется, над волной Вздувая паруса и мчась путем ужасным В неведомую даль, к невыносимо красным Созвездьям, чей хрусталь дробится под волной. … Над ликами растений золотых Заря свой лик пурпурный клонит, То эту ветвь, то эту нежно тронет, Сверкая в поцелуях золотых. В мясистых, точно губы, алых И сочных ягодах тая лучи, Под лозами, где прячутся ключи, Горит заря, сгущаясь в гроздьях алых. … Багровый свет, Воздет В шарах стеклянных, Горит и в полдень в дымчатых туманах Глазами золотыми, А солнца алое жерло В туман ушло, Исчезло в дыме. … Где прежде в золоте вечернем небосвода Сады и светлые дома лепились вкруг, — Там простирается на север и на юг Бескрайность черная — прямоугольные заводы. … След ярости на них, кровавый и багряный. О, прежний мирный труд на ниве золотой, В дни августа среди колосьев хлеба, И руки светлые над гордой головой, Простертые к простору неба, — Туда, где горизонт налился тишиной! … Вдоль фонарей, что в копоти и дыме Стоят кустами золотыми… Литейни, кузницы и адские чаны, Что нефтью и смолой начинены, Откуда иногда в небесные просторы Взмывают огненные своры… Испачкалась заря сама О прокопченные дома… И выползает ночь из дымки дальней, Пронизанной сияньем золотым. … Проспект чудовищный, строеньями объятый; Сжимает пену толп его крутой гранит, Пробитый окнами, где млеет и горит Последний ореол пурпурного заката. И, торсом каменным вздымаясь в высоту, Храня в своей нечистой тайне Тревожный дух земли бескрайней, Встал памятник златой, сияя в темноту. … Там золото горит и блещет, И жажда золота во всех сердцах трепещет, По городу летит из дома в дом И раздувает жар страстей кругом… И ярость, вспыхивая вновь При проблеске надежды вздорной, Восходит, красная, как кровь, … Над ужасами города, незримо, Но явно и непобедимо Царят идеи. Порою кажется, что там, над нами рея, Живут они средь неземных миров. Они плывут в сумятице ветров. Как зори алые, как полдни золотые, … Сквозь мглу кровавую над золотом ужасным, … Диск солнца золотой, садясь за косогором, Уже не кажется причастием святым. … К закатам серным и багровым… Он чутким сердцем слушал тьму И золото ночей бескрайных, … И в готику соборного фасада Вонзился молнии осколок золотой. Удар в небесной вышине — И звонница в огне! Спешит, от страха безголосый, Старик-звонарь простоволосый К своим колоколам. А там, В сплетеньях туч, и призраков, и чар, В дымах, подобных щупальцам воздетым, Растет пожар. Весь город озарен каким-то странным светом. Из окон стрельчатых, недавно полных мглой, Кровавость пламени глядит с усмешкой злой! … И вновь взметается костер, В безумье золотом и пьяном, Под небо черное — султаном. — Вот стог другой мгновенно загорелся! — Огонь огромен, — вихрем красным, Где вьются гроздья серных змей, Он все быстрей летит в простор полей, На хижины, где в беге страстном Слепит все окна светом красным. … А ветер огненных знамен Колеблет гроздья золотые. Огонь гудит, огонь ревет, Ему из дали вторит эхо, Реки далекий поворот Облекся в медь чудесного доспеха. Равнина? Вся — огонь и бред, Вся — кровь и золото, — и бурей Уносится смертельный свет Там, в обезумевшей лазури. … Что-то горело, алело, Сыпались белые розы, И извивались, как лозы, Линии Женского тела. В бледном мерцанье тумана Шел к ним корабль, как рог изобилья, Вставший со дна океана. Золото, пурпур и тело… Море шумело… … Ладьи кровавые скользят. И волны черно-золотые Устало зыблются в порту, Где люди мертвую мечту Свалили, как снопы простые. Одеты в киноварь, суда, У памяти своей во власти, Несут пылающие снасти Сюда, где чутко спит вода. … Туда, где, отразив закат, Заливы золото дробят, … Когда на небе золотом и рдяно-серном Раскинула эбеновый шатер Царица-ночь, … Простирают мачты золотые светы И отчаянья огни, Циферблаты отливают кровью; … Грядущее! Я слышу, как оно Рвет землю и ломает своды в этих Городах из золота и черни, где пожары Рыщут, как львы с пылающею гривой. … Холмы стояли в пурпурных повязках, И сборщики — они же рыбари — Полуобнажены, гребли в сияньях вязких Расплавленного золота зари. … Котел, лежащий на дворе, Как будто «Здравствуй!» говорил заре; Служанки медленно зевали, Еще не отряхнув остатки сна, На чердаках своих, где листья трепетали У залитого золотом окна. … Он Запад увидал. Грядущего заря, Как золото горя, Вставала там, затмив все чудеса Востока. … Пускай же золото нетленное грудей И глаз, где ясное не отгорело пламя За все века любви, становится тусклей Под ниспадающими скорбно волосами. Земля измучилась, и крови вечеров Устало напилась, и воззвала, тоскуя, К Голгофе, к сумраку ее ночных крестов. … Горящий куст! Костер живой! Склонись теперь над чашей золотой, … Брал приступом фасады золотые, И, с гневом смешанный, шел дождь камней, Гася по окнам отблески огней И словно золотом усыпав мостовые! И речь его, похожая на кровь, … К блистательной заре неведомой весны! … В просторах моря золотого. … На пурпурную тень ложится солнца свет, Как золото корон на пурпур багряниц, … В сверкающем дворце, где пурпурная тень И золото лучей скрестились в этот день, Сидит он с поднятым, сияющим челом, Что отдает себя он поцелуям алым, … В движенье яростном тех золотых шаров Вокруг костра огня, вокруг звезды родимой, — … Душа из пламени и золота — маяк … Вот он приходит к нам оттуда, где в Москву Глядится древний Кремль и золотые главы, Бросая в небеса багряный отблеск славы; … Я беспределен в том, что ширится вокруг, — В пространстве золотом, где слиты лес и луг; И я горжусь тобой, могучей жизни древо, Где узловой наплыв на треснувшей коре — Мой волевой порыв на утренней заре, Не сломленный судьбой в ночи труда и гнева. … И в октябре, когда в его листах блистало Густое золото и пурпур гордый рдел, Придя издалека, как пилигрим усталый, Светло и радостно я на него глядел. Оно своей листвы торжественное пламя Вздымало заревом огромным в небеса; … Счел силу золотых лучей, Что в окна бросила закатная заря;
Леса стальных мечей и золотых знамен Зарей сверкающей закрыли небосклон; … Под ветром резким, точно плеть, Ложится тлеть Одежда осени багряно-золотая.
Особенно богато на сочетания красных и золотистых оттенков стихотворение «Умереть» (перевод Ю. Александрова):
Багровая листва и стылая вода. Равнина в красной мгле мала и незнакома. Огромный вечер, там, над краем окоема, Выдавливает сок из тучного плода. И вместе с октябрем лениво умирая, Пылающую кровь роняет поздний сад, И бледные лучи ласкают виноград, Как четки в смертный час его перебирая. Угрюмых черных птиц приблизился отлет. Но листья красные сметает ветер в груду, И, длинные усы протягивая всюду. Клубничные ростки кровавят огород. И бронзы тяжкий гул, и ржавый лязг железа Все ближе, но пока проходит стороной. А лес еще богат звенящей тишиной И злата у него побольше, чем у Креза…
Есть у Верхарна и строфы, где красный упоминается без золота, и даже, наоборот, посвященные только золоту:
Вся ярость золота!.. Палящее виденье! О, золото! Кровь беспощадной вседвижущей силы. Дивное, злое, преступное, жуткое золото! Золото тронов и гетто, золото скиний, Золото банков-пещер, подземное золото, Там оно грезит во тьме, прежде чем кинуться Вдоль по водам океанов, изрыскать все земли, Жечь, питать, разорять, возносить и мятежить Сердце толпы, — неиссчетное, страстное, красное. Некогда золото было богам посвященным, Пламенным духом, рождавшим их молнии. Храмы их поднимались из праха, нагие и белые, Золото крыш отражало собою их небо. Золото сказкою стало в эпоху русых героев: Зигфрид подходит к нему сквозь морские закаты, Видит во тьме ореолы мерцающей глыбы, Солнцем лежащей на дне зеленого Рейна. Ныне же золото дышит в самом человеке… О, золото, что он сбирает в разных странах, — И в городах, безумствующих, пьяных, И в селах, изнывающих в труде, И в свете солнечном, и в воздухе — везде! О, золото крылатое, о, золото парящее! О, золото несытое, жестокое и мстящее! О, золото лучистое, сквозь темный вихрь горящее! О, золото живое, Лукавое, глухое! О, золото, что порами нужды Бессонно пьет земля с Востока до Заката! О, злато древнее, краса земной руды, О вы, куски надежд и солнца! Злато! Злато!